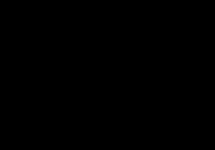ИРИНА ТАРХАНОВА, работающая над книгой «От революции до войны. Семейный портрет России. 1917-1941», делится с COLTA.RU фотокарточками из фамильных альбомов и семейными историями, которые за ними стоят
До 12 августа COLTA.RU в небольшом летнем отпуске. Но, чтобы вам не было без нас совсем уж скучно, мы собрали на это время небольшую коллекцию всяких странностей и редкостей, в основном прошлых лет, которые, как мы надеемся, вам будет любопытно разглядывать.
Коллекция семейных фотографий, которая насчитывает сейчас несколько сотен снимков, была начата в процессе подготовки второго тома «Россия в фотографиях», посвященного периоду между двумя войнами. Семейные фото должны были стать естественным дополнением к журналистским фотографиям и исторической хронике. Основа этой коллекции - семейные альбомы из социальных сетей, где я находила интересные старые фотографии, налаживала переписку с людьми и далее записывала их семейные истории. Эти фотографии не вошли в серию книг «Россия в фотографии. XX век», поскольку я планирую их выпустить в издательстве «Барбарис» отдельным альбомом «От революции до войны. Семейный портрет России. 1917-1941», приуроченным к 100-летию начала Первой мировой войны. Мне кажется, это и будет настоящий портрет времени.
Я хочу показать самых разных людей - от партийных боссов до нищих. Почему я выбрала именно этот период истории? До 1940 года ситуация была очень герметичная - это время групповых, постановочных и официальных фотографий. Не разрешали фотографировать на улицах, люди сжигали свои семейные архивы, даже дома мало фотографировались. Видимо, у людей был внутренний страх. Карточек живых, семейных очень мало, и поэтому они драгоценны. Настоящие лица той России - лица из семейных альбомов.
Ирина Тарханова
Семья Нотик
Роза и Женя Нотик. Июнь 1934 г.
На этой фотографии не мальчики, а советские девочки. Сестры Роза (12 лет) и Женя (9 лет). Летом 1934 года тайком от родителей они сбежали из Харькова в Москву встречать челюскинцев, спасенных в Арктике советскими летчиками. Без денег, без билетов, без точного адреса московской родни. Отважные дети сутки добирались до Москвы, пересаживаясь с одного поезда на другой и скрываясь от контролеров. В пути их подкармливали добрые попутчики. В Москве с трудом нашли тетку. Она дала телеграмму маме, неожиданно потерявшей двух девочек и страшно волновавшейся. А для тех начался праздник! Первый раз в столице, встреча челюскинцев, Парк им. Горького, мороженое и прочие радости жизни. Дома, конечно, они получили большую взбучку. Побег затеяла старшая, Роза. Она всегда отличалась бесшабашностью и активной гражданской позицией. Она и потом на фронт буквально сбежала, совершенно искренне считая, что без нее войну СССР не выиграет.
Роза Нотик. 30 декабря 1938 г. На обороте фотографии: Харьковский Дворец пионеров и октябрят. Новогодний бал-маскарад 30 декабря 1938 года. Костюм «День Сталинской Конституции». Уч. 79 шк. Роза Нотик
Снимок с одной из первых новогодних елок в Советском Союзе. До конца 1935 г. рождественские праздники и связанные с ними елки были запрещены, а первая новогодняя елка прошла именно в Харькове, именно во Дворце пионеров и октябрят в 1936 году по инициативе П.П. Постышева (1887-1939), тогда секретаря ЦК КП(б) Украины. Конец «левым перегибам» был неожиданно положен 28 декабря 1935 г. В этот день в газете «Правда» появилась небольшая заметка, подписанная кандидатом в члены Политбюро ЦК ВКП(б) П.П. Постышевым. Она начиналась так: «В дореволюционное время буржуазия и чиновники буржуазии всегда устраивали на Новый год детям елку. Дети рабочих с завистью через окно посматривали на сверкающую разноцветными огнями елку и веселящихся вокруг нее детей богатеев. Почему у нас школы, детские дома, ясли, детские клубы, дворцы пионеров лишают этого прекрасного удовольствия ребятишек трудящихся Советской страны? Какие-то не иначе как левые загибщики ославили это детское развлечение как буржуазную затею». Автор призывал комсомольских и пионерских лидеров в срочном порядке устроить под Новый год коллективные елки для детей. Это предложение было принято молниеносно. По всей стране были организованы елочные празднества, в магазинах появились «расширенные ассортименты елочных украшений». Таким образом, предложение (даже не указ) партийного руководства было принято и полностью осуществлено в масштабах страны всего за четыре дня, включая дату самой публикации. Подобная оперативность так и осталась недостижимым рекордом в истории СССР. Постышева расстреляли в 1939 году.
Роза Нотик с подругами на пляже
Войну семья Нотик встретила в Харькове. Им удалось эвакуироваться чудом, в последний день перед входом немцев в город. Они успели на последний эшелон практически без вещей, в том числе без теплой одежды, о чем не раз пожалели на Урале. Но почему-то забрали с собой альбом с фотографиями. В 1943-м Роза буквально сбежала на фронт, т.к. ее не брали по состоянию здоровья, вместе с Уральским добровольческим танковым корпусом. Сбежать с военного завода - это дезертирство, трибунал. Спас ее генерал Родин, сказав тогда историческую фразу: «Дезертиров на фронте не бывает». Служила в медсанбате, а в перерывах между боями пела в самодеятельном фронтовом джаз-оркестре. Дошла до Берлина, 9 мая 1945 года встретила в Праге.
Мать Розы Нотик (вторая справа) на похоронах товарища-революционера. Предположительно нач. 1920-х
Очень типичное фото того времени. Трагические и пафосные похороны героя революции, боевого товарища, борца за правое дело пролетариата. Начиная со времен революции 1917 года превращение красных похорон в большое драматическое шоу и фотографирование на фоне героических гробов, флагов, плакатов и революционных символов стало традицией. Массовые торжественные похороны приравнивались по значимости к социалистическим праздникам. (Прим. издателя.)
Роза Нотик с черным ножом на фронте. 1943 г.
В период формирования Уральского добровольческого танкового корпуса в 1943 году каждый боец и командир получил в качестве подарка от златоустовских оружейников черный нож. На эту особенность в экипировке уральских танкистов сразу обратила внимание немецкая разведка, давшая корпусу свое название «Шварцмессер панцердивизион» - танковая дивизия «Черный нож».
«Шепчут в страхе друг другу фашисты,
Притаясь в глубине блиндажей:
Появились с Урала танкисты,
Дивизия «Черных ножей».
Беззаветны бойцов отряды,
Их отваги ничем не уймешь.
Ах, не любят фашистские гады
Наш уральский стальной черный нож…»
(из песни того времени)
Семья Шибаевых
Татьяна Федоровна и Федор Иванович Шибаевы с детьми. Деревня Накладец Новгородской обл. Фото 1935 г.
Из переписки издателя с внучкой Татьяны Федоровны
Немцы пришли в деревню осенью, как и везде, установили свои порядки, назначили старостой местного, который, чтобы выслужиться, тут же рассказал новым хозяевам о продовольственных запасах крестьян. Запасы состояли из картошки, которую зарыли в землю, в так называемые бурты, замаскировали дерном. Поздно вечером, темнеет осенью рано, сидели с лучиной. Бабушка с детьми жила в бане, рядом штаб немцев, все на виду. Один из немецких солдат не побоялся прийти к ним и на ломаном русском сказал, что он сам отец, воевать не хочет, а завтра немцы пойдут раскапывать и изымать картошку. Бабушка хотела все бурты перепрятать, он не дал, сказав, что никто не поверит, один бурт оставили нетронутым, а остальные перепрятали, сам он принимал самое активное участие, всю ночь таскали мешки, хорошо ливень лил и никто не видел, чем там занимаются эти русские. Ведь он многим рисковал, но помог! Потом он приходил, Дунечке и Ване приносил сладости и все время играл на губной гармошке грустные мелодии. Говорил бабушке, что вернется ее хозяин, а он вернется к своим в Берлин. Когда немцы отступали, он был еще жив.
Как ни странно, немцы не зверствовали в деревне, они, считай, в тылу у своих войск стояли, бои там жестокие шли, это же «Демянский котел», поэтому они в себя приходили, залечивали раны. Староста просто функционировал, его и не расстреляли, когда наши пришли, а про немца он ничего не знал. Бабушка на лесоповале была во время войны, так называемая трудовая повинность. Женщины валили лес и сплавляли его по реке, по пояс в ледяной воде, баграми сталкивали бревна в воду. Ведь русские бабы - живучие, как говорила бабушка, и это пережили. Вообще она всегда говорила: есть хлеб и макароны и нет войны - и слава богу! Присказка у нее такая была. Их не коснулись репрессии, никто не был арестован и осужден. Но она всегда плакала, когда рассказывала нам военные истории, ведь она похоронила двух детей, выжили только две дочери.
Семья Кабановых
Дети Норильска. Фото 1937 г.
Из письма Оли Кабановой издателю
Мальчик в верхнем ряду - мой папа Игорь Сергеевич Кабанов. Здесь ему лет шесть-семь, значит, снимали в 1936 или 1937 году, в Норильске. Отчим папы был чуть ли не начальником Норильскстроя, так что на снимке дети не заключенных, а вольных сотрудников. Бабушка вспоминала, как дружно жила с заключенными, как передавала их любовные записочки.
Семья Петровых
Бабушка и дедушка в молодости. Иван Петрович Петров и Елизавета Александровна Петрова. Свадебная фотография, г. Окуловка, Новгородская обл. 1937 г.
Из письма к издателю
О родных бабушка никогда ничего не рассказывала. Была очень грамотная, знала немецкий язык в совершенстве. В роду у нас были немцы по бабушкиной линии, поэтому она и молчала.
Семья Кобяковых
Кобяков Игнат Семенович с семьей дочери Аксиньи. 1935 г.
Кобяков Игнат Семенович с женой и семью детьми в период столыпинской реформы переехал из Клинского уезда Брянской области в Уфимскую губернию и был одним из основателей деревни Слободка. Несмотря на неказистый рост, имел завидное здоровье. В молодости на лесосплаве по реке Сож через него перекатилось двенадцативершковое бревно. Но он остался жив. Слободчане Игната считали богатеем. Он имел пасеку и неплохой сельхозинвентарь. В совокупности его семье принадлежало более 300 гектаров земли. На оставшееся от отца наследство он помог всем сыновьям поставить добротные, крытые железом дома. Вместе с сынами раскорчевывал отруба под пашню. Свежие пни крепко держались в земле, а из инструмента - топор да вага. Работали от зари до зари. Придет, поест - и спать. А утром проснется - ладони не разгибаются. «Насадит» руки на топорище и давай опять корчевать… Его жена Наталья в молодости была статной красавицей, доброй и чуткой. Жили они дружно, в любви и согласии. В зрелые годы Наталья лечила травами и помогала роженицам. Игнат почти на 20 лет пережил супругу. Прожил 104 года.
Семья Кобяковых
Семья Котовых
Из серии фотографий, сделанных в Ашхабаде в доме семьи. 1931 г.
Из серии фотографий, сделанных в Ашхабаде в доме семьи. 1931 г.
Из серии фотографий, сделанных в Ашхабаде в доме семьи. 1931 г.
Из переписки с издателем
Мой прадед, Григорьев Антон Лукич, родился в Таганроге 08 марта 1871 г. Отец, Лука Мичели (1850 г., Мессина, Сицилия - 1943 г., Мальта), по информации из одного источника, был итальянским судовладельцем, по другой - приехал в Таганрог развивать собственное дело - строительство дорог. Признать сына как законного ребенка он не мог - в Италии была семья. Но связь с ним поддерживал до 30-х годов XX века, пока это было безопасно. В 1911 году Антон Лукич с семьей гостил у отца в Италии. Несмотря на родственные связи с далеко не бедным человеком, по жизни прадед пробивался, полагаясь только на собственные силы.
Как рассказывала его дочь, моя бабушка, чтению он учился у А.П. Чехова, с которым они были в приятельских отношениях. В семье долгие годы хранилось фото писателя с дарственной надписью. Антон Лукич постоянно занимался самообразованием - самостоятельно освоил итальянский язык, позже получил специальность фельдшера.
Антон Лукич долгое время работал фельдшером, служил во фронтовой медицинской части во время Первой мировой войны. Годы учебы и упорного труда позволили прадеду добиться многого: обеспечить своей семье достойный уровень жизни, а в период послереволюционного безвластия в Ашхабаде стать наркомом здравоохранения.
В Ашхабаде у семьи был собственный дом с 12 комнатами. Антон Лукич лично участвовал в его строительстве.
На лето семья выезжала на дачу в Фирюзу - пригород Ашхабада на границе с Персией (Ираном). К концу 20-х годов оставаться в Ашхабаде стало небезопасно. Высокое положение могло обернуться против семьи. В 1931 году дом поспешно был продан. С минимумом необходимых вещей и средств семья переезжает в Москву. На Петровском бульваре (дом № 19) была куплена подворотня, которую огородили с двух сторон и сделали пригодной для проживания. На большее денег не хватило. Антон Лукич работал санитарным врачом. И, как мне рассказывали, проверял качество вин. Супруга вела хозяйство. Дочери Женя и Муза учились в школе, брали уроки игры на фортепиано, с Женей занимались вокалом. Прадед был очень строг. Любил во всем порядок. Часто принимал гостей. Готовила Елена Николаевна - никакой прислуги не было. Стол сервировали по всем правилам: серебряные колечки под льняные салфетки, серебряные приборы и подставки под них. Фарфоровые супницы и тарелки разных размеров. В детстве я очень любила слушать истории, рассказанные моей бабулей, Евгенией Антоновной, о жизни в Ашхабаде. Представляла каждую деталь: просторный дом, караваны из Персии, груженные арбузами и шелками, любимого всеми садовника Мамеда, гроздья винограда, свесившиеся в окно, ароматные персики. То, как спасались от невыносимой ночной жары, завернувшись в мокрые простыни. И как однажды ночью в дом залезли воры, перепрыгнув высокий забор при помощи прицепленных к ботинкам пружин. А потом она рассказывала про московскую жизнь на Петровском бульваре.
Дочери наркома Григорьева, 1938-1939 год
«Барбарис» — издательство крошечное, юное и в начале пути. Все проекты здесь живые и осуществляются совместно с издателем, книжным художником Ириной Тархановой.
Для Тархановой «Барбарис» — это провокация действия, размышления, повод приблизиться к искусству, культурным традициям, попытка сделать это без крика и суеты. Искусство ныне становится туроператором, валютой, шоу, арт-рынком. И здесь можно сказать, что «Барбарис» — антиглобалист от культуры и искусства. Искусство теряет свою сакральность, теряет гуманистические коды, теряет трепетность, эмоциональную свежесть. Именно эту свежесть, недопроявленную ткань картинки и текста издательство пытается восстановить на новом современном уровне диалога с читателем, ищет ее в идеологии изданий и в способах подачи. Именно поэтому книга Алисы Порет «Записки. Рисунки. Воспоминания» своей игрой рукописного скетча, исторического анекдота и маленькой притчи стала олицетворением «Барбариса» в настоящий момент. Неожиданная популярность этой книги — суть подтверждение точности издателя.
Об Алисе Порет в издательстве:
— Мы выпустили в свет первую, одну из трех рукописных тетрадей художницы Алисы Порет. Этих тетрадей с нетерпением ждали знатоки русского авангарда и библиофилы почти полвека и уже не надеялись увидеть. Не секрет, что далеко не все коллекционеры стремятся к публикации своих сокровищ. Предпоследний обладатель тетрадей не был исключением. Поэтому, когда мои друзья и поклонники издательства посоветовали обратиться к наследникам Владимира Глоцера и Алисы Порет, я сразу же этой возможностью воспользовалась. Со своей стороны, наследники любезно предоставили «Барбарису» возможность первой публикации, за что я им невероятно признательна. Здесь я должна сказать, что отдельные отрывки из тетрадей неоднократно публиковались в разных изданиях, но публиковались не полностью и только в текстах без иллюстраций. Название первой книги, в которую полностью вошла первая тетрадь: Алиса Порет. «Рисунки. Записки. Воспоминания», лишь приближает к ее содержанию, поскольку жанр слишком необычен.
Алиса Порет многим интересна более как личность, а для библиофилов — как звезда ленинградской богемы эпохи Хармса и обэриутов. Человек блестящего ума и европейского воспитания, дочь француза и шведки, эта красавица и светская львица в конце жизни талантливо и остроумно записала в толстые тетради цветными шариковыми ручками короткие новеллы из своей жизни. Новеллы смешные, злобные, нежные, порой довольно драматичные она проиллюстрировала как детские книжки с картинками. Тетрадь была изначально задумана как рисованный объект с текстами, делалась несколько лет в середине 1960-х годов и вполне может считаться объектом концептуального искусства, предвосхищая большое количество подобных книг в будущем и возвращаясь к первым авангардным опытам 20-х годов.
Об устройстве книжки
Книжка Алисы Порет светится самим фактом возникновения в миру и новым трендом. Это принципиально. Архив, записки, мастеровитые почеркушки, смело нарисованные шариковой ручкой, изданы как арт — полностью в цвете. Они на дизайнерских английских бумагах, все это драгоценно и впервые. Ильдар Галеев, блестящий московский галерист, вскоре откроет выставку Порет с фундаментальным каталогом. Там будет вся фактология, воспоминания современников на мелованной бумаге и прекрасные репродукции из музеев с размерами и техниками от искусствоведов. Но можно поспорить, что так полиграфически устроенной книги не решился бы издать ни один галерист, ни один музей. Многие говорили мне, что издавать так — безумие. И здесь хочется сказать, что «Барбарис» задуман как разговор на уровне артистического жеста и суровых километров комментариев не будет. «Барбарис» — другое. Мы с Ильдаром дополним друг друга каждый своей работой и этому рады. Валерий Шубинский написал блестящее эссе об Алисе Порет, назвав его «Первая тетрадь маркизы». Валерий Алису не любит и строг к ней. Валерий любит Хармса и стоит за него. Это его авторская позиция, это его герой, и тем интереснее его слово. В конце мы дополнили книгу краткой биографией и комментариями. Для этого жанра, а книгу можно считать набором репродукций, сшитых в книгу, вполне достаточно.
О подготовке рукописи
Первая тетрадь Алисы Порет как будто специально была задумана для нашей книги. Справа — картинка, слева — пустая страница. Эти пустые страницы оказались местом трансляции каллиграфических записок, которые многим читателям трудны для восприятия. Самым сложным оказалось перевести рукописный текст в книжный. И здесь еще раз пришлось убедиться в невероятной стилистической огранке литературных опусов Порет. Ни одного слова, ни одного предлога нельзя было упустить или перепутать — сразу рассыпалось ощущение целого, рассыпалось ослепительное остроумие и меркли смыслы. Все выделения мы старались строго соблюдать. Но эффекта «цветного текста» до конца передать так и не удалось.
О продолжении проекта
Вторая книга Алисы Порет будет состоять из фрагментов второй и третьей тетрадей. Первая тетрадь — неделима в каждом слове и картинке. Это единый организм. Вторая и третья тетради — другие. Там Алиса Ивановна Порет предстает в ином свете, где трудные моменты ее жизни и драмы быта проявляются в других формах текста и иллюстраций, нежели в первой тетради. Во вторую книгу дополнительно войдет большой блок архивных фотографий, многие из них ранее не были опубликованы. Для Алисы Порет и людей ее круга ощущение жизни как непрерывной игры и жизни как артефакта было неотъемлемой частью существования. Эта игра отразилась в ярких фотосессиях, знаменитых «кинофильмах», которые ставились как живые картины большой компанией художников, поэтов, артистов. Среди них были Даниил Хармс, Татьяна Глебова, Петр Снопков, Кирилл Струве, а затем Лидия и Юрий Щуко, Николай Радлов, Борис Майзель и, конечно, сама Алиса Порет. Теперь трудно представить, глядя на этот запечатленный веселый домашний театр, что параллельно в жизни происходили события трагические. Многие из действующих лиц погибли в конце тридцатых и начале сороковых годов. Издательство «Барбарис» предоставит возможность первого знакомства с этим уникальным фотоархивом. Предварять книгу будет статья известного московского литератора, поэта Марии Степановой.
…И о других проектах
Ни для кого не секрет, что современная «книга для чтения» утекает теперь в электронные чернила, iPad, iPhone и прочие андроиды. Книга становится предметом культурной традиции, драгоценным подарком, личной утехой. Поэтому мы сосредоточены, прежде всего, на качестве изданий и разнообразных принтов. В то же время будем думать, как продукцию сделать доступной для всех. И если человек не сможет купить нашу книгу, он сможет купить качественную картинку, подписанную автором, открытку. Что касается нашей издательской политики, то предпочтение живым авторским материалам — дневникам, запискам, разного рода рукописям, архивным фотосессиям, играм. Сейчас мы готовим к выходу первую книгу из многотомного дневникового издания «Путешествия с Сировским», книжную серию для детей «Художники о художниках», книгу поэта Татьяны Щербины «Цветные решетки» из ее рукописного самиздата 1980-х, продолжим проект «Книги детей». Книги детей — это рисунки с записями рассказов к ним, которые порой делают сами родители, поскольку дети сочиняют, но еще не умеют писать. И это лишь небольшая часть наших планов. Но если в двух словах, позволю себе повторить то, что уже сказала однажды: барбарис — это колючий кустарник с нежными листьями и симпатичными красными ягодами. Растет между садом и лесом. Ведь на этой границе происходит все самое интересное.
Ирина Тарханова. Фото: Александр Лепешкин
В галерее «Роза Азора» начался мини-фестиваль «Русская тема» издательства «Барбарис». «Барбарисовые» вечера — начиная с 18:00 и вплоть до последнего посетителя — будут проходить по 26 августа, они посвящены последним новинкам издательства, специально созданного для выпуска книг художников.
Основательница издательства Ирина Тарханова и ее именитые гости презентуют «Бедные книги» Ирины Затуловской (25 августа) и «По России с Сировским», третий том путевых дневников Валерия Сировского (26 августа), а также сборник писем Владимира Стерлигова «Белый гром зимы» (23 августа) и «Досужие домыслы» Константина Победина (24 августа).
Перед этим каскадом презентаций мы поговорили с Ириной Тархановой о том, где она придумала эмблему своего издательства, почему ей так дороги книги, написанные на «островах», и чем издание музейных каталогов отличается от выпуска архивных редкостей.
Какая из выпущенных книг для вас самая важная?
Все они — мои дети, все они со своими характерами, все они дороги мне по-разному, так как являются разными открытиями моей жизни. Настоящие мамаши должны знать своих детей лучше окружающих и с любовью вести их по жизни вместе со всеми недостатками. Но, конечно, самый любимый — младшенький: новые дети всегда лучше старых.
— это «Белый гром зимы», любовная переписка и стихотворения художника Владимира Стерлигова первых лет Второй мировой.
Стерлигов сразу же покорил меня своим литературным даром. Ритмическая проза, которой он писал, — из моей юности. Увлечение Андреем Белым осталось от моего бывшего мужа Леши Тарханова. В моей библиотеке есть прижизненные издания «Серебряного голубя», «Москвы» и «Петербурга». На эту почву Стерлигов лег идеально. С его океаном чувств после Карлага (Карагандинский исправительно-трудовой лагерь. — TANR), когда, казалось бы, в душе должна была остаться только выжженная земля. В университете мы проходили послелагерную назидательную поэзию Заболоцкого. Это был ужас, хотя его «Столбцы» — до сих пор из самого любимого. Я ведь за это и Леонида Аронзона как-то особенно люблю: он написал диплом о Заболоцком. Так все и закольцевалось в этом издании, тем более что личность Стерлигова меня оглушила.
Он хотел быть писателем в начале 1920-х, однако увлекся Малевичем и стал его учеником. Из его живописных работ мало что сохранилось. В 1939 году Стерлигов вернулся из Карлага, полностью обнулившись. Друзья подарили ему драповое пальто. Это и было всем его имуществом.
В Ленинграде он находился нелегально: у него стояло «минус шесть городов» в паспорте. Но он возродился к жизни, когда влюбился. Вновь почувствовал себя живым. Это такое чудо! Книгу составили письма к его возлюбленной Ирине Потаповой. Жена Стерлигова пропала без вести в лагере, так же как и муж Потаповой... Над художником и его музой постоянно висит угроза нового ареста — и тут эта любовь, которая дала им возможность спастись.
Как к вам попали его письма?
От Ирины Стерлиговой. Она еще в 1990-х случайно обнаружила их в римском архиве Андрея Шишкина, профессора Университета Солерно и директора римского Центра Вячеслава Иванова. В обувной коробке на полке его дома. Ира Стерлигова — главный специалист по прикладному искусству Средневековья и византийскому искусству в России и, так вышло, наследница Стерлигова (ее муж был племянником художника). Именно поэтому Андрей Шишкин и стал составителем этой пронзительной книги.











Вы издали Стерлигова, так как письма, дневники, воспоминания и биографические бумаги — специализация «Барбариса», я правильно ее определил?
Дневники, письма и документация, связанная с жизнью художников, ведь «Барбарис» — издательство, созданное художником и прежде всего про художников.
Мы с Лизой Плавинской (художником, искусствоведом и галеристом; Лиза — универсальная артистическая личность и большой друг «Барбариса»; сейчас мы делаем с ней один важный проект) однажды это сформулировали и даже хотели создать компанию издательств, предназначенных только для художников. Это не «книги художников», но издательства, созданные художниками. Почувствуйте разницу. Это совсем другое. Пока мы твердо придерживаемся этой идеи, и только одна книга («Проклятые тосканцы» Курцио Малапарте) — исключение. Но и Малапарте переведен с итальянского художником Валерием Сировским. И это мне особенно интересно.
Расскажите, как к вам пришел Сировский. Для меня его книги — биографическая повесть и — стали самыми знаковыми книгами «Барбариса».
Вначале его каллиграфии к воспоминаниям «Спасибо товарищу Сталину...» не произвели на меня особого впечатления. Валерий тогда просто искал книжного дизайнера для издания своих тетрадей и записных книжек.
Есть художники, отрабатывающие свою философию и место внутри арт-рынка, а есть те, кто рисует, как дышит, просто фиксирует жизнь, как поет. Они радуются своим открытиям, не думая ни о чем. У них другое поле действия — поле так называемого «наивного искусства». Но наивно оно только с точки зрения продавца, куратора, менеджера, историка искусства.
Вопрос звучит так: кто для нас важнее — земский доктор или светило медицинской науки?
Мне земские доктора интереснее в разы. А еще мне интересно, когда светила прикидываются земскими докторами. Так еще интереснее, и именно таков Сировский. Мне важно, когда я не понимаю, как это сделано, из чего, зачем…
Ирина, если это книги художников, то, что в них важнее, — текст или визуальная составляющая? Вы ведь делаете штучные выпуски, каждый раз меняя технологию, чтобы максимально аутентично передать особенности хрупких жанров.
Это не просто книги про художников. Это размышления художника, издающего книги, понимаете? Изучая этот материал, я осознала, что именно с такими маргинальными персонажами, с их параллельно живущими островами я и должна работать. Таков мой путь и моя ниша.
Вот поэт Татьяна Щербина каллиграфически записывает свои стихи, рассказы и эссе. Вот художник Владимир Стерлигов написал письма ритмической прозой. Вот переводчик сделал гениальные архитектурные скетчи, а художница Алиса Порет придумала абсурдистские анекдоты с картинками.
Меня волнуют перекодировки, поле непредвиденного. Мне интересна островная жизнь, параллельная мейнстриму, когда не важны потоки, миллионы просмотров, миллионные хиты продаж и супергерои. Для меня Стерлигов — супергерой. Мало кому известный нищий художник, писавший гениальные письма Прекрасной Даме. В свою очередь, Дама эта написала пронзительные воспоминания о блокаде, по-своему выдающиеся.
Почему сейчас важно искать в стороне от мейнстрима?
Нас окружают штампы. Они в эпоху мгновенного распространения информации множатся с головокружительной скоростью. Участвовать во всем этом не очень хочется.
Кто ваш читатель?
Люди, способные задуматься. Остановиться и задуматься, заметить движение облака, перемену ветра, взгляд ребенка, который на самом деле уже давно гораздо взрослее этого взрослого. Люди, способные удивляться. Они есть и пишут благодарные письма. Когда пишут: «Читал, смеялся и плакал!» — мне большего и не надо. Это главная награда. Многие ли могут плакать над страницами книг?
Читатели каталогов и роскошных книг, которые я оформляю, никогда не говорят мне спасибо. Потому что там я в общем потоке. А тут мы все вместе сопротивляемся этому потоку, понимаете?
Еще как! С одной стороны, вы выпускаете штучные, чуть ли не рукописные книги, с другой — как дизайнер делаете монументальные каталоги самых престижных выставок. Например, картин из Пинакотеки Ватикана в ГТГ или «Палладио в России» для венецианского Музея Коррера. Расскажите об этой стороне своей деятельности. Что в музейном каталоге самое важное?
Музейный каталог — это всегда итог работы большого коллектива. И это тоже интересно. Дизайнер работает здесь как медиатор: он должен поймать музейный поток, пропустить его через себя и не погибнуть.
У дизайнера музейных изданий совсем иные задачи. Каталог — проводник истории, музейного дела, амбиций, установок моды и стиля. Дизайнер здесь уже не демиург — но я же люблю работать с авторами! В этом деле я повивальная бабка, помогающая родить то, что выношено многими прекрасными, умными, талантливыми людьми. Я не считаю, что делаю гениальные каталоги, но стараюсь соединить работу многих других. Сложная задача, так как все же должны быть довольны. У меня не получается быть сволочью, продавливать свои идеи, скандалить, видеть только свое. На каталогах я не утверждаюсь как художник.
Какие в «Барбарисе» тиражи?
От 50 до 1 тыс. экземпляров. Для моих книг это немало. Наш чемпион — «Сто стихотворений» Леонида Аронзона, общепризнанного гения ХХ века. Его тираж давно перевалил за 1 тыс. экземпляров.
Алиса Порет — еще одна моя экстравагантная и безупречная любимица. Вот и Стерлигов, уверена, полюбится многим. Как художника его совсем мало знают. И тем более как писателя и поэта. А, например, Даниил Хармс его ценил весьма высоко.
Почему все-таки «Барбарис»?
Для меня это растение — символ свободы. В 1989 году я поехала в свой первый европейский тур. Чехия. Там, в Татрах, усыпанных снегом, на фоне вкуснейших запахов из кофеен и уютных магазинчиков всюду лежали россыпью красные ягоды барбариса. Тогда, в ноябре 1989-го, в Москве была страшная разруха, грязь и мрак. Про запахи даже не говорю. Все плохо. А в Чехии — голубое небо, чистый снег, ароматы благополучия, фахверковые уютные дома, и вот эти красные ягоды свободы.
Барбарис — красивый, сильный и крайне симпатичный. Растет между садом и лесом, но при этом его незаслуженно мало задействуют в нейминге. Хотя многие любят это название из-за конфеток.
Плакат Марии Пермяковой:
Плакат Ксении Проценко:
Плакат Марии Косаревой:
Дизайн-пространство Тархановой-Якубсон
Сергей Серов
Пластическая основа произведений графического дизайна – взаимодействие черного и белого, формы и контрформы, фигуры и фона. Одну из этих составляющих видят все, потому что идея передается обычно с помощью черного, «фигуры». Увидеть её, считать содержание сообщения может каждый. Другую составляющую – белый фон – как правило, видят только графики. Точно поставить «фигуру» на белый лист, превратить знак, букву, строчку в произведение графического дизайна может только профессионал. И эта точность видения невидимого, работа с «воздухом» – самая сокровенная часть профессии.
Для широкой публики графический дизайн – разновидность графики, изобразительное искусство. Для профессионалов – это искусство не изобразительное, а выразительное, архитектоническое. Архитектура белого пространства.
Жанровый состав графического дизайна предельно широк: шрифты и знаки, фирменные стили и упаковка, наружная и городская реклама… В последнее время к ним добавились телевизионная и компьютерная графика, мультимедиа и вэб-дизайн… Но парадигматической сердцевиной профессии по-прежнему остается типографика – королева графического дизайна. А типографика работает по существу с одной единственной краской – белой. В конце концов дизайнер может получить готовыми и знак, и шрифт, и орнамент, и нарисованную другим художником иллюстрацию, и снятую фотографом фотографию… Но все равно останется потребность в специалисте, способном выразительно разместить это в пустом пространстве белого листа.
Типология видов и форм типографического пространства безгранична: оно внутри и между буквами, между строками и иллюстрациями, внутри и вокруг полосы набора... Как сказал классик книжного дизайна ХХ века Ян Чихольд, типографическое искусство «заключено большей частью в выборе промежутков».
Говорят, в языках северных народов нет слова «снег». Зато есть несколько десятков специальных слов для обозначения «снега тающего», «искрящегося на солнце» или «подходящего для скольжения нарт». Так всегда бывает с самыми важными понятиями. Вот и в графическом дизайне существует множество терминов для обозначения пустоты: «интерлиньяж», «просвет», «пробел», «трекинг», «кернинг», «апрош», «шпация», «шпон», «коридор», «дырка», «абзац», «отступ», «втяжка», «спуск», «отбивка», «слепая строка», «поля», «модульная сетка», «ось»... Это всё о нём – о тайном пространстве профессионалов.
Много ли среди работающих сегодня в графическом дизайне тех, кто чувствует это пространство? Тех, кто понимает и любит типографику? Тех, кто способен возвести «искусство промежутков» до уровня современной визуальной культуры?
Увы, узок их круг. И страшно далеки они… Дикий рынок обрушил критерии профессионализма. И уровень мастерства держится сегодня только благодаря самоотверженным усилиям энтузиастов.
Ирина Тарханова-Якубсон – одна из тех, кто несмотря ни на что продолжает отстаивать честь и достоинство графического дизайна как высокого искусства.
Впервые я услышал это имя в конце 80-х, когда мы в журнале «Реклама. Теория, практика» организовывали всесоюзный конкурс шрифта. Её проект «Ракурс» получил там премию. Это была её первая работа в шрифте. С тех пор внимательно слежу за её работами.
Она успешно занимается книгой, журнальным дизайном, всем, чем занимается современный дизайнер-график. Особое её пристрастие – концептуальные авторские календари, построенные целиком на основе типографической образности. Она привнесла в работу с полиграфическим пространством книги, журнала, календаря такое точное чувство ритма, пропорций, что её имя стало одним из самых заметных в отечественном графическом дизайне.
И вот мы сидим в уютной редакции художественного журнала «Пинакотека» на Патриарших прудах, беседуем о её творческом пути. Что меня интересуют больше всего, так это истоки её столь редкого сегодня дарования и того энтузиазма, на котором держится активная художественная деятельность. Её учителя, друзья, культурная среда…
– В 1982 году я окончила МАархИ. С самого начала хотела заниматься книгой. Но мне казалось, что Архитектурный институт даст более широкое художественное образование. На самом деле я не ошиблась, хотя окончательно это потом уже осознала. Я не сразу поняла, что книжная страница – это пространство, а не место, которое заполняется картинками. А потом вдруг увидела – так это ведь та же самая комната, тот же самый дом, который нужно наполнять мелкими табуреточками или крупными шкафами, чувствовать, какая там высота, ширина, глубина... Ощутила пустое пространство книжного листа как воздух, которым мы дышим.
Архитектурное образование дает уникальные вещи для артистического человека – ощущение пространства, масштаба, ритма.
Еще студенткой начала сотрудничать с издательствами, рисовать иллюстрации...
– В МАрхИ рисунок очень конструктивный…
– Да, конструктивный. Правда, мне повезло с Сергеем Васильевичем Тихоновым. Это был непревзойденный корифей рисунка. Он ткал воздух с помощью линий. Когда он рисовал, казалось, что он не прикасается к бумаге. Только углубленно размышляет, а на бумаге волшебным образом проявляется эта философия, как на переводной картинке. Смотреть, как он рисует, было счастьем...
В то же время я поняла, что конструктивный рисунок – очень специальный вид рисования, что его недостаточно, нужно как-то совершенствоваться.
И вот на третьем курсе я пришла к Виктору Исаевичу Тауберу, замечательному книжному иллюстратору. У всех детей были его книжки «Беляночка и Розочка», «Кот в сапогах»...
У Виктора Исаевича была школа Юона, где главное – воздух, лепка из света и тени. И конечно, Таубер был фантастически образованным человеком. Великолепно разбирался в классической музыке, у него была огромная библиотека, коллекция репродукций, которую собирал ещё с тридцатых годов. Его компания со времен молодости – поэты Арсений Тарковский, Вилли Левик, Аркадий Штейнберг. Они дружили всю жизнь. Ну и мне чуть-чуть перепало.
– То есть это был одновременно и личностный рост?
– Безусловно. Виктор Исаевич очень на меня повлиял. Мы слушали классическую музыку. Он рассказывал про Ахматову, Чуковского, Маршака, Фаворского, Юдину, Файнберга, с которыми лично общался. Он подсказывал мне, что читать, что смотреть в музеях. Тогда я узнала впервые про самиздат.
Потом всё это двигалось дальше с Евгением Александровичем Ганнушкиным, с которым я познакомилась в 1982 году. Он тоже был меломаном, тоже вместе читали, смотрели, разговаривали. С первого дня он предупредил, что о шрифте, о буквах разговаривать не будем. За чашкой чая – о форме дверной ручки, о собаке Шаляпина... Но я приходила в мастерскую и видела, как лежат кисточки, перышки, карандаши, как он их точит. Он говорил: «Ириша, есть только одна вещь, которая не занимает нисколько времени – дисциплина». Это все действовало фантастически. Я дышала и напитывалась этим воздухом.
Что касается профессиональной работы, я раскладывала на полу огромное количество эскизов. Евгений Александрович вдумчиво смотрел, выбирал маленькую закорючку и участливо говорил: «Сохрани. Ты должна расти из этого». Дальше я уже сама разбиралась.
Он всегда говорил: «Если бы жив был Иван Федорович Рерберг, я бы до сих пор к нему ходил». Вот так и я. До сих пор бы училась.
– Приходите к нам в ВАШГД, теперь его внука поучить, он у нас на третьем курсе.
– Да, Миша Ганнушкин... Хорошо. Я и сама уже собиралась. Но у меня ведь нет жесткой методики, концепции преподавательской. Книжки мои делаются каждый раз по-разному. Одной линии нет. Фабрично-заводские штудии я не могу преподать. Меж тем, я могу заниматься вместе со студентами любимым делом. Я вот уже придумала, как нести свои размышления через бумагу, чтобы они конструировали, анализировали, резали, клеили, вникая в различные стили, фактуры, композиции. Провоцируя их на действие, забывая о страхе. Ведь студенты очень боятся придумывать, пускаются на разные хитрости, уловки... А тут вроде бы и придумывать не нужно, повторяй себе произведение великого маэстро в бумажной технике... То есть двигаться через бумагу, через рукоделие, через глаза. И через уши, если хотите... Бумага ведь шуршит, ломается, скрипит...
– То, что бумага дает тактильно-визуальные ощущения, общеизвестно. Но что она действительно по-разному звучит, шуршит, шелестит – на это мало кто внимания обращает…
– Работа с бумагой – большой кайф. В МАрхИ я обожала клеить и резать макеты, делать декупажи, клаузурные задания. И Евгений Александрович очень трепетно относился к бумаге. Однажды выдал мне лист литого торшона, чтобы я сделала композицию. У меня ничего не получилось. Он увидел и закричал: «Забоялась, забоялась! Ой-ой-ой! Бумаги забоялась!». Работа вышла вялой. Страх перед королевской бумагой победил. Но Евгений Александрович очень трепетно относился к моему увлечению и вообще всячески прославлял архитектурное образование, считая его лучшим. Видимо это было связано с тем, что его учитель, Иван Федорович Рерберг, был архитектором по образованию, оформлял лучшие советские академические издания по архитектуре.
Потом, немного позже, мне очень помогал покойный Юрий Курбатов, главный художник журнала «Декоративное искусство». Очень мощный, талантливый мастер. Он учил строить развороты, учил работе с иллюстрациями в журнале, свободе в технологических пределах, лаконизму, непредсказуемым ходам. Я также считаю его своим учителем.
– Когда это было?
– В «ДИ»? В 1986-м. Потом был «Ракурс», журнал в журнале. Первый журнал по нонконформистскому искусству, который мы делали с Лешей Тархановым. Тогда я и вырезала из ластика акцидентный шрифт, который так и назвала – «Ракурс».
– Но Курбатов – это же линия Аникста–Троянкера…
– Да, это были две разные линии. Ганнушкин вырос из рисовального, академического направления. А у «Миши с Аркашей», как он их называл, было жесткое, минималистское, баухаузовское проектирование. Классики считали, что надо сохранять рукотворную книгу. А их направление развивало конструктивные фотонаборные шрифты и фактически двигалось к компьютеру.
Но что могу сказать определенно – корешок Ганнушкина я узнаю из тысяч книг на полке, а Аникста – нет.
Теперь я понимаю, что оба направления были очень важны. Надо сохранять свое, уникальное, живое – и двигаться на Запад, к техничной, современной книге.
– У вас какая закваска сильнее?
– Конечно, ганнушкинская. В 1987 году на мосховской выставке я выставляла шрифтовую каллиграфическую композицию. Сделала книжку «Сказки дядюшки Римуса» в полностью рисованном оформлении. До сих пор стараюсь писать, рисовать, делать что-то руками.
– Но ваши книги и календари – это же не Ганнушкин. Это ведь компьютер, архитектура, так ведь?
– Да, компьютер. Но я стараюсь идти к живому и теплому в компьютерной графике, вернуться к рукоделию. Вот уже двадцать лет лежит макет книжки-игрушки, пространственно принципиально новый макет. Пока нет ни сил, ни времени им заняться.
– Надо вместе со студентами…
–Как раз через это и надеюсь вернуться к пространственному моделированию уже на новом уровне, поняв многое про книгу .
– Мы говорили про учителей, теперь давайте про тех, кто рядом…
– В начале 90-х я познакомилась с покойным Шурой Белослудцевым. Я делала тогда каллиграфические композиции из своих резиновых штампов, которые вырезала для «Ракурса». Это были и свободные композиции, и строгие шрифтовые... Издательство «ИМА-пресс» выпустило тогда мой календарь с резиновыми принтами. Шура был арт-директором издательства, и я познакомилась с кругом его друзей – Сашей Гельманом, Андреем Логвиным, Юрием Сурковым, Лёшей Веселовским.
Безусловно, все мы тогда дышали общим воздухом. Конечно, смотрели в сторону активного Запада. У нас ведь в России почти всё вторично. Всё деструктурировано. Дизайнерской среды как таковой нет, да и быть не может. Она пока не нужна этой стране. Мне кажется, она нужна кучке дизайнеров. А остальным – всё равно. Так и вязнем в болоте. Одну ногу вытащим – другая проваливается.
В общем, очень тяжело, особенно с книжками. Поскольку книжки требуют спокойных исторических пластов, нежной, не грубой среды... Книжка вообще мистический продукт. Такой гриб, который вырастает из культурной плесени, из мудрой бумажной природы... Поэтому сколь угодно долго можем охать по поводу голландских книжек, но это недостижимо. Во Франкфурте я не поленилась, прошла все стенды с книжками по искусству... Лучшим был крошечный голландский стенд с томиками, созданными буквально ангелами. Это трудно объяснить. Книга многослойный надкультурный и очень демократический продукт. Она должна быть таинственно свободна.
В России можно быть демиургом на каком-то строго ограниченном, своём поле... Вот каллиграфия, вот календари, фирменный стиль или даже телевизионная студия, если заказчик запуганный, в желудке у дизайнера. Поэтому и существуют Чайка, Сурик, Гурон, Логвин, Эркен Кагаров, Елена Китаева, Юрий Гулитов. Но такие ситуации единичные. Я считаю эту группу, которая сложилась в начале 90-х, своей. Можно еще добавить десяток имен. Но ведь этого очень мало! Возникают новые имена, молодые, но их сразу же заглатывает зубастая пасть рекламного бизнеса. Они начинают зарабатывать деньги, и очень приличные, еще ничего не поняв. Я своего сына просто выгнала учиться в Голландию, поскольку здесь он уже стал здесь зарабатывать большие деньги, еще не получив толком образования.
Мне не хватает дизайнерской гильдии, которая организовывала бы конференции, международные круглые столы. Ведь столько интереснейших проблем... Хочется живого общения, профессионального теплообмена, кровотока. Ну и молодые присматривались бы, тянулись. Ведь не только деньги... Авторитеты, академики дизайна, которые застолбились стихийно, еще при жизни супержурнала « Greatis », на заре российского романтического капитализма, теперь должны «легализоваться». Надо активнее развивать творческие стимулы в профессиональном сообществе, жить в нем, спорить, ругаться, обсуждать выставки, книги, журналы.
Дизайн в России – поле, устланное лепестками роз, а под ними болото. Никому ничего не нужно. То, что вы делаете, Сергей, кроме вас никто больше в стране не делает. Никто не занимается структурированием русского дизайна…
– Так что вы хотели сказать про голландские книжки?
– Ну, это на уровне высшей йоговской школы. Медитация плюс дыхание. Высшая типографическая школа дыхания. Надкультурный слой. Люди работали сосредоточенно столетиями, планомерно, спокойно. Они долго не стреляли друг в друга. Только и всего. И достигли этой безукоризненной прозрачности, ясности, лаконизма. Билет трамвайный в крошечном городе Утрехте – произведение дизайна. Что тут скажешь? Там тотальный повсеместный дизайн. Что предметный, что графический. Легко, удобно, гармонично. Всех студентов-дизайнеров – в Голландию гнать. Как раньше отправляли русских живописцев на стажировку в Италию, так теперь русских дизайнеров – в Голландию. Без этого образование не засчитывать.
– Страна – Голландия. А город какой любимый?
– Иерусалим! Поначалу мне показалось, что город вывернут наизнанку. Какая-то антиархитектура. Развернутые на тебя амбразуры окон. Пещерный стиль. А потом поняла, какие в этих пещерах таятся сокровища.
Разные евреи привозят свою культуру изо всех частей земного шара. Эфиопские евреи, мароканские, аргентинские, французские, китайкие, русские... Привносят каждый своё, самое сущностное, яркое.
Потом разные религии и религиозные конфессии, в каждой свои слои, традиции, устои. Очень живой город, молодой и древний одновременно.
– А Москва и Питер? Вы ведь теперь живете и работаете между двумя городами …
– Москва, безусловно, тоже живой город. Вавилон. Только кочевой, не устоявшийся. Все на чемоданах. То ли он едет, то ли уже приехал. Сегодня набили чем-то эти чемоданы. Завтра выбросили. Потом решили сжечь и кибитки. Потом нашли старые чемоданы, стали их опять набивать, чем ни попадя. И кибиток уродливых понастроили, коврами накрыли покрасивше. И так бесконечно. И это всё так яро, самозабвенно… Глаза болят от уродства.
А в Питере мне хорошо думается, хорошо дышится как художнику, как архитектору. Я отдыхаю глазом в Питере. Все-таки столько роскошной, очень качественной архитектуры успели понастроить всего за двести лет! Так что хожу и глазею на всю эту красоту. Радуюсь и наслаждаюсь.
– Какие шрифты любимые?
– Работаю с тем, что есть. Баскервиль проверенный, Франклин, Официна, Универс, Мета новая, иногда Кэзлон, Дидона… Я бы работала только с Прагматикой, если б в ней было 12 жирностей. Это была бы моя гарнитура.
– Есть ли у вас ощущение исторического рубежа, конца книги?
– Мировой дизайн движется, безусловно, в направлении компьютера, создания параллельного пространства, гигантской виртуальной сказки, проникновении в следующее измерение... Но я думаю, будут другие времена и другие книги. Например, в том же Израиле очень популярны сейчас пластиковые книжки, которые дети купают в ванной. Наверняка будут книжки с сенсорными страницами или просто симулякры – можно фантазировать до бесконечности.
В конце концов, книга появилась вместе с людьми, осознавшими себя по настоящему на горе Синай, и исчезнет, если человек откажется от этого. Для меня книга – самый таинственный объект предметного мира.
Всё равно книжки издаются гигантскими тиражами. Посмотрите, что делается во Франкфурте на книжной ярмарке! Каждый день там демонстрация, плечом к плечу, гигантские толпы. Не видно никакого заката. Мощнейшая индустрия и очень много маленьких стендов с рукотворной книгой, с книгой художника, литографской, шелкографской, офортной, просто рисованной… Книга будет развиваться в разных материалах. Это зависит от фантазии людей, которые будут над этим работать.
Мне, например, интересно одушевлять компьютер. Это вообще не исследованное поле – чуткий нейтринный мир. Он живой. Я его постоянно ощущаю. Он помогает, бурчит, сопротивляется…
– Если оглянуться на творческий путь, про что можно сказать: «Это мое»?
– Прежде всего, календари. Там я себя чувствую себя в гордом одиночестве. Мне там хорошо и не тесно. Сейчас готовлю очередную календарную выставку в Италии. Итальянцы очень хорошо принимают мои работы. Им не надо объяснять, что мои календари – это архитектура. Они не спрашивают, где понедельник, где суббота. В календарях я нашла свою архитектонику. Нашла свои ритмы и свое пространство. В какой-то момент я поняла, что календарь – это горизонтально и вертикально развивающиеся структуры. Горизонтальная ритмически повторяется: понедельник, понедельник, январь, январь, полночь, полночь. В то же время есть вертикаль, модульные членения: день, неделя, месяц, год. И из бесформенной кучи цифр я придумываю и выстраиваю свои архитектоны.
Что же касается книжек, здесь ситуация сложнее, поскольку книжки я делаю с авторами. В книжном дизайне я считаю себя медиумом, отнюдь не демиургом. Все мои книжки – портреты авторов. Так получается. Мистическая история. Часто подписываю дизайн совместно с авторами. Авторским считаю только букварь. Мне кажется, что в нем мне удалось что-то принципиально новое сказать. Но эта был изначально блестящий филологический проект Маши Голованивской.
Журналы, журнальный дизайн – немножко другое. Это – коллективный портрет редакции. Умею до смешного точно определять болезни редакции, глядя на полосы журналов. Как хиромант.
– Что вы считаете главным в своей жизни?
– Невероятное везение во встречах, общении, дружбе с людьми искусства. С людьми, способными мощно выразить свои мысли, чувства, эмоции. Со специалистами высочайшего класса в разных областях культуры. Они учили меня понимать кино, литературу, балет, музыку, фотографию, архитектуру. Это – мой дом, моя среда, мой воздух. Я ощущаю себя частью этого артистического сообщества.
Если бы я была начальником образования, то запретила бы многие предметы в школах, а ввела самый главный – «Общая ритмика». Чтобы учить сразу – поэтике, сольфеджио, каллиграфии... Основам классического танца и основам киномонтажа... Рисунку и хоровому пению... Поскольку всё пропитано всем. Упираясь только в одну область знания, умения, мы рискуем стать ремесленниками, но не артистами. И только быстро бегаем как страусы, но не летаем. А должны чувствовать единый ритм, которым пронизано всё в мире, замечать его, видеть, понимать радость творения, слышания, звучания...
Ну и привносить что-то своё. Быть щедрым…